- Главная
- Новости
- О Библии
- О возобновлении Завета в Священном Писании: метод богословского соотнесения как герменевтический инструмент
О возобновлении Завета в Священном Писании: метод богословского соотнесения как герменевтический инструмент
Обобщая результаты огромной работы, проделанной библеистами и другими исследователями темы Завета, С. Хан отмечает успехи в преодолении редукционистских (англ. reductionistic) тенденций старой науки, достижении большей точности в определении и систематике (англ. taxonomy) Завета, понимании канонической функции этого термина (англ. the canonical function of the term) и концепции (англ. concept) в Священном Писании[3], и называет взгляды, которых придерживались занимавшиеся этим вопросом ученые, основополагающими. Авторы, которых он относит к первой группе (англ. foundational studies), «[в ранних работах, которые к сожалению и непреднамеренно,] имели тенденцию к редукционизму, фокусируясь на отдельных аспектах такого явления, как завет-договор: закон/этика (Ю. Велльгаузен; 1885[4]), культ (З. Мовинкель; 1981[5]), политика (Д. Э. Менденхолл; 1955[6])»[7].
Такие авторы активно привлекали к своим исследованиям данные смежных наук: истории, филологии, юриспруденции, антропологии, — применяя их методы к изучению библейских повествований о Завете Бога с людьми. Однако, как утверждает С. Хан, к концу прошлого века вследствие неудовлетворенности присущей подобным теориям фрагментацией многие из них «были отвергнуты большинством исследователей»[8]. Авторы, придерживавшиеся более широких взглядов, в попытке постигнуть смысл библейского понятия «завет» попытались интегрировать в обобщающих теориях различные варианты заветных моделей, предложенные в рамках редукционистских идей. Но, обобщая опыт первых и вторых, С. Хан делает вывод, что каких бы взглядов ни придерживался тот или иной исследователь, «[многие из них] признавали, что конечной надеждой еврейских пророков были такие отношения с Богом, закрепленные Заветом, которые превосходят любые типологии, выстроенные людьми, и не могут быть реализованы в нынешних историко-временных рамках»[9].
Этот до конца не формализуемый и скрывающийся в эсхатологической перспективе смысл, по-видимому, отражает осознание нашими далекими предками того, что в любом договоре (в том числе и между людьми) всегда имплицитно присутствует некий божественный элемент, который невозможно исчерпывающе описать в человеческих терминах. Исследователи древних текстов однозначно указывают, что в форме дошедших до нас древних гражданских договоров и завещаний нельзя не видеть отсылку к высшим силам. «Если бы в так называемых “гражданских” договорах не было божественного элемента, было совершенно бы непонятно, что заставляло участников такого договора повиноваться его условиям»[10].
Именно в силу этой осознаваемой близости смыслов библейские авторы столь свободно переносят понятие, изначально характерное для сферы гражданских отношений, в описание союза Бога и людей.
Впервые в Священном Писании слово ברית встречается в повествовании о Потопе, после окончания которого Бог заключил Завет с Ноем (Быт. 6:18). Но исследователи настаивают на том, что договор с Ноем нельзя считать первым. Они, подмечая этимологическую связь слов ברית (завет) и בריאה (творение), указывают на события, связанные с грехопадением прародителей, и даже на описание творения как на «время» заключения такого Завета, хотя в этих примерах и отсутствуют некоторые традиционные элементы всех позднейших союзов-договоров: наличие двух договаривающихся сторон, торжественное объявление взаимных обязательств, знак(и), подтверждающий(ие) заключенный союз и напоминающий(ие) о нем, фиксация договора на материальном носителе, угроза(ы) за его неисполнение[11]. Но все же при этом цель этого изначального союза-договора ясно отражена на страницах уже в первых главах книги Бытия: это исполнение воли Творца и установление «Божьего владычества над миром, признаваемого человеком»[12]. Австралийский библеист В. Думбрелл, называя договор с Ноем «напоминанием о базовом паттерне творения», утверждает, что многократное повторение обетований, данных Ною после потопа (Быт. 9:1–17), «ясно показывает, что божественные цели, для достижения которых Творец вступил в отношения [с человеком], должны быть достигнуты. <...> Невозможно ожидать, что Бог мог бы потерпеть нарушение того замысла, который Он всецело одобрил в Быт. 1:31»[13].
Поскольку договоры-заветы всегда «предполагают ранее существовавшие отношения, которым через формальную процедуру лишь придается значение обязательности»[14], то Завет с Ноем может быть осмыслен как форма актуализации той особой связи, которая изначально имела место между Богом и прародителями, а произошедшее после потопа — как оформленный в виде договора-завета новый этап реализации ясно высказанной Творцом еще в раю воли Божией о человеке и мире. Этой точки зрения придерживался и русский библеист М. Э. Поснов, который, анализируя мысль Иисуса, сына Сирахова (Сир. 17:1–10), настаивал на том, что «Завет Бога с человеком начался с самого появления человека на свет. <...> сущность этого Завета <...> в том, что Бог, соответственно тем высоким дарованиям, которыми Он наделил человека при творении, указал ему наивысшую цель жизни»[15].
Уже в рассказе об обетовании Аврааму Бог называет заключенный Им Завет вечным (Быт. 17:7). Далее указание на это многократно повторяется в Писании (см.: Исх. 31:6; Лев. 24:8; 2 Цар. 23:10; Ис. 24:5; Ис. 55:11; Ис. 61:8; Иез. 37:26; Иер. 32:40; и др.). И каждый раз, когда грех людей грозил разрушить первый Завет людей с Богом, лишь непоколебимая верность Творца Своим обетованиям не давала ему прекратиться: «Человек, получивши от Бога известное назначение при творении, хотя и мог временно устраниться от него, так как он имел свободную волю, однако совсем устранить от себя цель своей жизни человек не мог, потому что она была неизменна: Завет Бога с человеком был вечен»[16].
Как о звеньях одной цепи, идущей «от первого творения к Ною, от Ноя к Аврааму, от Авраама к Синаю, Давиду, Новому Завету Иеремии и ко Христу»[17], говорят о непрерывности этого вечного союза и современные исследователи богословия Завета. И если в рамках документарной теории было принято считать, что разные редакции библейского текста отражают различные по времени и по происхождению представления о Завете, то у исследователей, придерживающихся широких интерпретаций, можно найти радикальные утверждения о том, что «во всей еврейской Библии есть только один, постоянно обновляющийся Завет»[18].
Но если Завет Бога с людьми един и вечен, почему же тогда еще задолго до Христа «параллельно теме заключения союза-Завета вновь и вновь возникает в Библии ее своеобразная неотступная тень — тема необходимости (воз)обновления Завета»?[19] Об этом Священное Писание Ветхого Завета повествует многократно. Вот лишь несколько примеров: Нав. 24:1–26; 4 Цар. 23:1–3.21–23; 2 Пар. 15:8–15. И, пожалуй, самый известный эпизод — Иер. 31:31–34. Об этом же продолжают говорить и более поздние тексты Израиля, относящиеся уже к межзаветному периоду: 2 Мак. 7:36–38; 8:5 а также Дамасский документ кумранской общины (CD-A 5, 21 — 6, 21)[20]. Единственной причиной этого Сам Бог устами прор. Иеремии называет неверность Израиля: «Тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними» (Иер. 31:32).
И богословы и светские библеисты согласно утверждают, что «такая настойчивая необходимость обновления является реакцией на то, что воспринимается библейской традицией как несоответствие избранного народа требованиям Завета, как его временный провал, отход от предначертанного Всевышним пути»[21].
А все разделенные столетиями истории примеры такого возобновления объединяет одна и та же идея: первоначальный союз, заключенный Богом с Израилем, по причине неспособности избранного народа исполнить его должен быть так или иначе обновлен.
Но не кроется ли в этом отрицательный смысл? Ведь, опираясь на евангельские указания, казалось бы, можно сделать однозначный вывод о том, что несомненный богословский авторитет должно иметь изначальное, древнее понимание тех или иных заповедей, данных Самим Богом. Это же касается и того первого Завета Бога с человеком, цель которого неизменна. Однако Сам Христос повторяет многократно высказанную еще пророками мысль о том, что по причине человеческой неспособности исполнить требования этого Завета во всей полноте со временем в его толкования вносились различные послабления и даже искажения. При этом, несмотря на накопившиеся «наслоения», именно первоначальное понимание продолжает обладать непреложным авторитетом: «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф. 5:18).
Господь Иисус Христос многократно возвращает своих слушателей к древнему пониманию Божественных повелений, «очищая» их от накопившихся искажений, послаблений или модификаций. На это прямо указывает евангельский текст: «Он же говорит им: по жестокосердию вашему Моисей позволил вам разводиться с женами. А сначала было не так» (Мф. 19:8).
Однако если ограничиться только таким прямолинейным пониманием священного текста, то можно прийти к противоречивым выводам. Ведь раз все, появившееся со временем, имеет вторичное значение, а порой и искажает первоначальный Божественный замысел, то не будет ли сама история восприниматься как только череда падений и искажений? Но такое мнение в корне противоречит христианскому восприятию истории как места спасения, в которой Бог неизменно реализует Свой Промысл о человеке и мире.
Возвращаясь к вопросу о многочисленных возобновлениях Завета Бога с людьми, нужно отметить, что библейскому повествованию совсем не свойственно рассматривать каждый последующий такой эпизод в категориях деградации. Как раз наоборот: в ряде примеров мы видим, что понимание смысла заключенного Завета становится более возвышенным, углубляется, достигая своей кульминации в установлении Нового Завета Господом Иисусом Христом. Итак, по причине, во-первых, высокой частотности, а во-вторых, особой значимости, череда эпизодов, повествующих о возобновлении Богом Своего Завета с народом, может служить удобным материалом для выявления библейской интуиции того, в каком отношении новые элементы, которые находятся в повествованиях о возобновлении Завета, находятся по отношению к первоначальному его содержанию.
Как представляется, использование метода богословского соотнесения может помочь расставить необходимые акценты в этом вопросе и найти такие способы толкования, которые позволят избежать упомянутого выше антиисторизма. Под богословским соотнесением предлагается понимать сопоставление культурно-исторического явления с нормой религиозного сознания, формализованной в рамках церковной традиции. Цель такой процедуры — выявление предельных (сотериологических) смыслов изучаемого явления. Если выразиться в более традиционных для богословия терминах, то речь идет о соотнесении этого явления с тем, что в Предании Церкви принимается как норма: ведет ли оно по пути спасения или, наоборот, уводит от него.
Здесь необходимо оговориться, что в задачи настоящего исследования не входит определение богословской нормы и выявление принципов выделения «эталонных» элементов Предания, с которыми и должно проводиться богословское соотнесение. Но, безусловно, от того, что исследователь, придерживающийся той или иной традиции, принимает за норму, зависит то, какие выводы им будут сделаны. А они, как будет показано ниже, могут быть весьма различающимися. Однако это более широкий вопрос. Его решение выходит за рамки настоящей статьи. Тем не менее можно предположить, что те нормативные элементы Предания, с которыми производится процедура соотнесения, будут выполнять роль «старого», а изучаемое явление получит статус «нового». По отношению к теме многократных возобновлений Завета Бога с людьми результат их сопоставления, помещенный в сотериологическую перспективу, позволит дать богословскую оценку тому «новому», что появляется в каждом последующем описании.
Свое толкование явления постоянного возобновления Завета в Библии предложил несколько лет назад на Ежегодной богословской конференции ПСТГУ специалист Иерусалимского университета С. А. Рузер[22]. Это выступление тем более удобно использовать для сравнительного анализа, что оно однозначно отражает определенную экзегетическую традицию, отличную от христианской.
Итак, в первом из упомянутых эпизодов, возобновлении Иисусом Навином Завета после обращения евреев к чужим богам (Нав. 24:23), Писание повествует о том, как народ, вдохновляемый Иисусом Навином после завоевания обещанной Богом земли, торжественно обещает исполнять заповеди Господни. Формой такого возобновления становится четырехкратное повторение у Сихема слов, напоминающих обещания, данные Моисею (ср. «...все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны», Исх. 24:7): «Господу будем служить» (Нав. 24:16, 18, 21, 24). При этом в данном эпизоде не происходит ни какого-либо добавления к синайскому Завету, ни установления новых форм, подтверждающих его незыблемость. Слова «и вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия» (Нав. 24:26) не означают изменения Закона, но лишь фиксируют покаяние народа: библейский текст говорит о раскаянии израильтян и их желании вернуться к нормам Закона. А камень, установленный Иисусом Навином в память об этом событии, не становится местом централизованного поклонения. Два следующих эпизода также связаны с отпадением Израиля. Первый — при царе Иосии примерно в 622 г. до Р. Х. (в восемнадцатый год правления Иосии). Здесь, в отличие от произошедшего при Сихеме, по повелению царя «материальным» знаком возобновления Завета становится централизация богослужения, совершаемого в Иерусалиме строго в соответствии с повелениями Моисея, и возобновление празднования Пасхи как постоянного воспоминания исхода из Египта. А второй эпизод говорит об очередном подтверждении Завета, имевшем место при правнуке Давида царе Асе (в третий месяц, в пятнадцатый год царствования Асы), когда был очищен оскверненный Иерусалимский жертвенник. Писание отмечает, что к возобновлению Завета и к жертвоприношениям иудеев присоединились «живущие с ними переселенцы» (2 Пар. 15:9). И хотя С. А. Рузер утверждает, что во всех этих случаях речь идет лишь «о возобновлении обязательства исполнять уже существующие постановления, являющиеся неотъемлемой частью древнего синайского Закона»[23], но в приведенных эпизодах все же можно усмотреть некую динамику. В каждом последующем случае появляются все новые детали: от простого словесного обещания, данного Иисусу Навину, через централизацию культа в Иерусалиме и возобновления празднования Пасхи, которые уже видимым образом подтверждают, что Завет возобновлен, до однозначного указания на то, что только через сохранение верности Завету с Богом Израиль может рассчитывать на свое новое собирание воедино (включение в законное богослужение «переселенцев», то есть рассеянных к тому времени десяти колен народа). Уже здесь можно зафиксировать, что старое (аутентичное) понимание Завета повторяется всякий раз совсем не механически. Возобновляемый договор Бога с людьми в каждом последующем эпизоде получает все новые видимые знаки, призванные напоминать о первоначальном смысле этого союза: верности своему Богу. Как некогда после потопа Бог дал Ною на небосводе видимое знамение возобновления союза с Ним (Быт. 9:13), так и теперь евреи получают видимые знаки непреложности Завета: централизованное богослужение и совершение Пасхи, надежду на начало нового собирания.
Качественно новый этап в чередующихся эпизодах, связанных с восстановлением Завета, наступает с началом вавилонского пленения. Именно в это время имеет место одно из центральных событий ветхозаветной истории — пророчество о будущем заключении Нового Завета (Иер. 31:31–34). Этот текст хорошо известен. Пророк Иеремия констатирует, что внешние знаки непреложности Завета не уберегли народ от отпадения. Карой за это стало разрушение Иерусалима, осквернение Храма и пленение народа. Пророк стал этому печальным свидетелем. Как замечает С. А. Рузер: «Слова Иеремии, особенно если их историческим контекстом была катастрофа разрушения Храма, могли выражать ощущение пророка, что, по крайней мере, культовые предписания Моисеева Закона теперь не более, чем “мертвая буква”»[24].
В этой новой ситуации, когда в условиях плена надежда на видимое возвращение к исполнению требований Завета была ничтожной, прор. Иеремия возвещает, что местом такого возобновления станет не Иерусалимский Храм, а сердце человека. Великолепное осмысление этой интериоризации понимания Завета дает апостол Павел в третьей главе своего Второго послания к Коринфянам (2 Кор. 3:2–11). Но для раскрытия темы данной статьи принципиальным в этом эпизоде является осознание того, что коренное обновление форм не противоречит сохранению смысла заключенного Богом Завета. Казалось бы, нет ничего общего между пышным, многолюдным и до мелочей регламентированным иерусалимским богослужением и смиренным упованием конкретного человека в глубине сердца. Но именно это перенесение смысла с внешних форм на внутреннее содержание наилучшим образом подчеркивает, каков был первоначальный смысл договора (то самое «старое»): всецелое принятие человеком Божественной воли о нем самом и о всем мироздании и сохранение ей верности. Это и являлось первоначальной и, пожалуй, единственной целью первого Завета, как об этом пророчествовал еще Иеремия: «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: “познайте Господа”, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» (Иер. 31:34). А все то, что в новых формах не способствует сохранению этого первоначального, сокровенного смысла, может быть Богом изменено или вовсе отвергнуто.
Но поскольку человеку в его актуальном состоянии все же нужны внешние знаки и правила, то они сохраняются. Главное, чтобы они (то самое «новое») не заслоняли и не вытесняли первоначальный смысл Божественных повелений. Так, следующий эпизод (очередное возобновление Завета уже при Маккавеях) нарочито указывает на то, что мученики Маккавеи готовы следовать «отеческим законам» (см. семикратное повторение этого выражения во Второй книге Маккавейской) даже до смерти, то есть скрупулезно исполнять повеления Закона. С. А. Рузер замечает, что это повествование «не оставляет сомнений в том, что базисные требования Торы остаются в силе»»[25]. Но при этом проявившаяся в пророчестве Иеремии метаморфоза понимания глубинной сути Завета здесь видна совершенно ясно. «[В данном эпизоде] об интериоризации нет и речи. Однако несомненны и новые элементы: мученичество праведников оказывается здесь своего рода искупительной жертвой, приводит к прощению грехов народа, то есть выступает как своего рода заменитель храмового жертвоприношения»[26].
И если для С. А. Рузера важным оказывается отсутствие на новом этапе интериоризации понимания Завета в духе прор. Иеремии и возвращение к ритуальной стороне Торы, которая и выступает для него своеобразным гарантом непрерывности единой традиции, то для раскрытия темы данной статьи гораздо более значимым является другое: в условиях, когда совершение законного жертвоприношения (т. е. того, что являлось видимым символом сохранения Завета) оказывается невозможным, его глубинный смысл, как и в случае с прор. Иеремией, проявляется в новой форме — самопожертвовании и осознанного мученичества ради его сохранения.
Это же можно усмотреть и в Дамасском документе, где соблюдение заповедей понимается не как повеление исполнять законные установления и участвовать в храмовом богослужении (от которого членов общины отделили не завоеватели, а они сами), а как требование: «(они) должны следить за тем, чтобы действовать по объяснению Закона для поры нечестия, и отделиться от Сынов гибели, <...> отличать святое от мирского, <...> согласно относящимся к нему толкованиям, и праздники, и день поста, как (при) исходе вошедших в Новый Завет в стране Дамаска, чтобы возносить святые (приношения) согласно их (толкованиям), любить каждому брата своего как себя»[27].
Как у прор. Иеремии и в книге Маккавеев, здесь мощный акцент ставится на верности духу Завета, а не на его формальном исполнении. И если для С. А. Рузера данный эпизод — это свидетельство характерной для кумранитов «коренной ре-интерпретации установлений синайского откровения»[28], отражающий лишь одну из существовавших в различных течениях иудаизма периода Второго Храма точек зрения, то при богословском соотнесении даже в разнящихся внешне традициях можно выявить общий смысл. При его использовании в Дамасском документе вполне допустимо увидеть проходящую через разные эпохи и традиции общую библейскую интуицию об истинном исполнении Закона по духу, а не по букве, то есть призыв к тому, что и является в конечном счете его целью. При всей кажущейся парадоксальности этот вывод достигается не особой экзегезой, обслуживающей интерес той или иной конкретной общины, на чем так настаивает С. А. Рузер, а попыткой увидеть в новых проявлениях действие Промысла Творца о спасении мира, отраженного уже в первом Завете-договоре с людьми. Эта божественная воля, сохраняясь неизменной по существу, на каждом следующем историческом этапе находит все новые и новые формы для своего выражения. Такое предположение, как кажется, не будет непозволительной эйсегезой, поскольку «всю последовательность Заветов от Авраама до Нового Завета необходимо рассматривать как направленную на достижение определенной цели: откровения Себя Богом всем народам, как и Израилю. <...> В определенном смысле оправдано говорить о Завете, состоящем из определенных фаз»[29].
Именно так учил ап. Павел, отрицавший следование внешним правилам, пусть и укорененным в «предании старцев», в ущерб истинному содержанию божественных повелений. Великолепным образцом этого является его поучение из второй главы Послания к Римлянам, в котором он говорит об иудее «по сердцу», а не «по наружности» и истинном обрезании «в сердце», а не по плоти (Рим. 2:17–29).
Примеры того, как священные авторы в новых формах прозревали подлинный смысл «старого» встречаются и в других местах Священного Писания. Именно так блж. Феофилакт Болгарский, например, толкует слова ап. Петра: «Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Пет. 3:13).
Блж. Феофилакт говорит: «Господь устроит новое небо и новую землю, “новые” не по сущности и веществу; ибо если кто строит новый дом, то это не значит уже, что он строит его и из вещества, не существовавшего прежде. Нет, Бог однажды создал вещество и образовал его во всевозможные виды и составы, и что было необходимо для здешней лишь жизни, а для тамошней нетленной бесполезно и излишне, то Он отменит, а что полезно, тому даст новый образ с красотой нетленной и неувядающей, и дозволит наполнять другой и нетленный мир»[30].
Но ведь это та же интуиция, которая на протяжении всей библейской истории «видит как неизменность, когда мы утверждаем [единство] Завета, так и разрывы, когда мы говорим о разных этапах его развития»[31].
С. Хан, интерпретируя теорию, предложенную Д. Уалтоном, о смысле Завета как продолжающегося Откровения Бога людям, называет ее «кумулятивной сменой божественных заветов»[32].
Итак, мы имеем два различных подхода к соотнесению «нового» и «старого» в библейском тексте. С одной стороны, это богословское соотнесение, смысл которого, о чем уже говорилось, заключается в попытке понять, как в истории во все новых формах реализуется и нарастает тот опыт богообщения, который был получен нашими прародителями еще в раю. Задача богослова — проследить это непрерывное исполнение в истории божественного воления о спасении человека: от первого заключенного с Богом Завета, через все последующие его возобновления, о которых многократно повествует Библия, к его совершенному воплощению в установлении Христом Нового Завета в сионской горнице. То есть она состоит в усмотрении в новых и часто разнящихся формах единого действия божественного Промысла, которое окончательно исполнилось во Христе, см. Рим. 10:4 (GNT): «τέλος γὰρ νόμου χριστὸς». А с другой стороны, это характерная для современных исследователей Писания работа по типологизации и деконструкции различных текстов. С. А. Рузер называет ее «библеистикой в узком смысле слова», противопоставляя «гуманитарным исследованиям»[33], к которым он относит и богословие. Оба подхода имеют право на существование[34]. Но необходимо четко понимать различие стоящих за ними целеполаганий. Намерение библеиста С. А. Рузера заключается в стремлении доказать, что в новозаветных текстах, как это уже не раз было в истории Израиля, пересекаются и конкурируют многообразные традиции, отражающие различные «модификации мотива Нового Завета»[35]. При таком подходе исследователя интересует не поиск обозначенного еще ап. Павлом вектора мировой истории, указывающего на Христа. Его задача, о чем он и сам сообщает читателям, — доказать, что «в традициях, складывавшихся в различных группах первоначального христианства, отражены разные представления о сущности Нового Завета или, по крайней мере, различные акценты в его понимании — если угодно, многообразие интерпретаций. Таким образом, в этом важном частном случае подтверждается <...> общее предположение о том, что христианство наследует многообразие подходов, свойственное иудаизму периода Второго Храма»[36]. Богослову же важно в качестве итога своей работы нащупать единую нить спасительных действий Божиих, идущую от начала мира к его завершению.
Но, кроме этого вывода, богословское соотнесение эпизодов, повествующих о возобновлении Завета, позволяет выйти еще на один общий вопрос. Речь идет о том представлении об истории, которое вытекает из этих библейских повествований. Это тот же вопрос, что был поставлен в самом начале данной статьи: как совместить христианское видение истории как места действия спасительного Промысла Божия о мире и человеке, и описанные в Библии постоянные отступления людей от союза с Творцом, требовавшие божественного вмешательства для его восстановления? Ведь, когда речь идет о многократном возобновлении чего-то и возврате к утраченному идеалу, на ум приходит представление о цикличности истории, которое христианство отвергает. Но и строгая прямолинейная схема не может быть признана полностью удовлетворительной, поскольку при общем векторе истории, указывающем на Христа, нужно найти правильное объяснение отраженных в Писании падений человека от союза с Богом и его неверности своему Творцу.
Предложить непротиворечивое решение этой проблемы пытается христианское богословие истории, корни которого уходят в глубокую древность. Одина из первых попыток дать на нее ответ встречается уже в появившемся после трагедии разрушения Иерусалимского Храма Плаче Иеремии. Богословскими интуициями такого рода полны межзаветные тексты. Об этом говорят апостол Петр в первых речах после Пятидесятницы (см. Деян. 2–4) и первомученик архидиакон Стефан перед синедрионом (см. Деян. 7). И далее христианская мысль постоянно продолжала возвращаться к этому вопросу. Интерес к нему не угас и сегодня. Осмысление эпизодов, повествующих о возобновлении Завета, прекрасно укладывается в эту же традицию.
Интересные и неожиданные мысли на эту тему можно найти у В. В. Бибихина в его книге «Новый Ренессанс». Главная методологическая установка, которой руководствуется автор, состоит в том, что «[для правильного понимания современности необходимо] найти возможность — это трудно — заметить другое: что древность не сзади, а впереди, человеку от нее не уйти и, возможно, он всего ближе к старому тогда, когда его щекочет и манит острота небывалой новизны. <...> Древность расположилась прямо посреди нашего беспредельного размаха как само существо и предельный предел всякого размаха»[37].
Понимая Ренессанс не просто как новое обращение европейского искусства к античным стандартам и эталонам, а как постоянное «возвращение, восстановление, восстание»[38] форм человеческого духа, В. В. Бибихин задает все тот же вопрос об осмыслении на новых этапах человеческой истории древних идеалов. В каждой последующей эпохе они вновь и вновь оказываются актуальными и современными. Архетип подобного возвращения к истокам В. В. Бибихин находит уже в Священном Писании: «Библия не линейна и не циклична, а вся ренессансна, от Моисеевых многократных возвращений народа на родину и к истинному Богу до возвращения из вавилонского плена, до Нового Завета, который весь построен как возвращение Ветхого, восстановление истины смысла пророков. Ветхозаветные вещи были пока опережающими тенями будущего, прообразами того, что еще только должно было стать, наступив именно как возвращение к началу, к исходной истине»[39].
В противовес принципу возврата из «темных веков», периодически случающихся в истории человечества, назад к утраченному идеалу В. В. Бибихин предлагает увидеть ключ к пониманию мировой истории в духе ренессансности, которая по сути своей и есть прозрение вечных норм («старого») в обновленных формах (в «новом»). Через это снимается противопоставление идей о цикличности и линейности библейской истории. Ее смысл оказывается в том, что на каждом новом этапе спирали человеческой цивилизации действием Промысла Божия в ней по-своему раскрывается заложенная изначала повелением Творца устремленность мироздания к спасению. И постоянное обновление Завета между Богом и людьми, достигающее своей кульминации в Новом Завете, заключенном Иисусом Христом, это наглядно иллюстрирует.
Выводы
Итак, можно сделать выводы из проведенного исследования.
● Использование метода богословского соотнесения как герменевтического инструмента позволяет увидеть в разрозненных и часто непохожих друг на друга библейских эпизодах единое действие Промысла Божия о спасении человека. Вопреки людской неверности и греху Бог на каждом новом этапе находит те формы реализации Своей воли, которые лучшим образом соответствуют и этому моменту, и способности человека их воспринять и реализовать. Примером этого может служить многократное обновление первоначального Завета, заключенного Богом с людьми.
● Эта тема выводит нас на вопрос о том, каково библейское представление о мировой истории: является ли она только линейным движением от творения к своему завершению в событиях Апокалипсиса? Или, как об этом можно было бы предположить при анализе постоянных повествований о возобновлении Завета Бога и людей, история в каком-то смысле циклична? Процедура богословского соотнесения позволяет снять эту дилемму и увидеть в череде повествований об обновлении Завета идею «кумулятивной смены божественных заветов», отражающую в мировой истории общий принцип реализации Божественного Промысла. Если воспользоваться наглядным образом, то его действие будет не линейно и не циклично, а скорее напоминать спиралевидное движение от создания мира, через сменяющие друг друга формы («новое»), в которых неизменно сохраняются изначально вложенные Богом в творение смыслы («старое»), к концу мировой истории.
Читать полностью на Богослов.ru
Новости по разделу
Поделиться:
Комментариев пока нет
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий


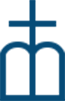



























 Mint Studio 2017
Mint Studio 2017